Гринмантл - предтеча шпионско-авантюрного "саспенса"
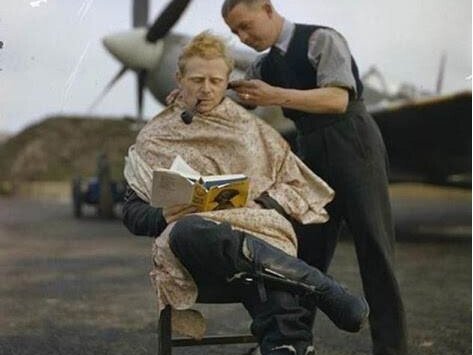
«Гринмантл» - приключенческий #триллер начала XX века, положивший начало жанру западного авантюрного «шпионского» направления в литературе и кино. Его автор – Джон Бьюкен (1875-1940) - не просто писатель, а пэр #Англии, один из высокопоставленных чиновников британского разведывательного сообщества периода Первой мировой войны и генерал-губернатор #Канады (1935-1940). Он использовал свои профессиональные знания для придания видимой достоверности сочиненной им истории о таинственном «пророке» в зеленом плаще, который должен возглавить некое «исламское» возмущение в регионе Ближнего Востока в период «Великой» войны, как называли на Западе Первую мировую. Переиздавался несчетное количество раз, но в #России практически не известен, при том что русские в «Гримантле» изображены с большой симпатией, что не характерно для большинства художественных произведений англо-саксонских авторов. Экземпляр романа был найден даже в библиотеке Зимнего дворца после занятия его революционными матросами в 1917 году.
Предисловие переводчика и издателя
Дорогой читатель, перед Вами - уникальное, практически неизвестное в России произведение, оказавшее, тем не менее, огромное влияние на становление целого жанра западного шпионско-авантюрного и приключенческого романа как в #литературе, так и в #кино. Вышедший в свет в самый разгар Первой мировой или, как ее принято называть на Западе – Великой войны, роман «Гринмантл», сегодня почти совсем забытый, в момент своего появления произвел настоящий фурор. В нем едва ли не впервые в современной англо-саксонской литературе был выведен образ современного разведчика (#шпиона) – одиночки, благодаря своим неординарным личным способностям и лихости, умудряющегося всякий раз переигрывать вражескую контрразведывательную службу и противостоять ее самым каверзным и опасным козням на широком фронте от Европы до самых дальних участков фронта Великой войны. Роман стал настолько популярен, что за короткий промежуток времени распространился по всему миру. А, благодаря благожелательному изображению действий русских на Кавказском фронте в Первую мировую войну, был благосклонно принят и в России: даже в царской библиотеке Зимнего дворца после занятия его революционными матросами в 1917 году был обнаружен его экземпляр на английском, благо, в семье Романовых этим языком венценосные особы владели вполне. (Так что, тот, кого осознание этого факта греет, вполне может довольствоваться тем, что является владельцем одного из «стульев из дворца»). В #Великобритании даже было выпущено пиво под этим названием с изображением размахивающего флагом всадника на вздыбившейся лошади на этикетке.
Разумеется, нельзя утверждать, что шпионско-приключенческие романы автора «Гринмантла» Джорджа Бьюкена (1875 - 1940) в начале ХХ века были единственными в своем роде. Напротив, «в предшествующее Первой мировой войне десятилетие британский шпионский #триллер превратился в настоящий культурный феномен, подобного рода литературу читали повсеместно представители всех сословий и классов, благодаря чему их авторы становились невероятно популярны как глашатаи, выражающие озабоченность нации своей мощью, имперским могуществом и иностранным шпионажем. По самым консервативным оценкам, в период между 1901 и 1914 гг. в Британии в свет вышло около 300 наименований «шпионских романов». Почему такой успех выпал именно на долю «Гринмантла» - можно только гадать. Видимо, все дело в удачном стечении обстоятельств, профессиональной осведомленности автора, мешанине типажей, ситуаций и мест действия и точности попадания автора в палитру обывательских ожиданий и стереотипов.
Отличительной особенностью англо-саксонского сознания является «алармизм» - обязательное наличие «врага у ворот» - это является довлеющим психологическим условием самосохранения англосаксов как нации-замкнутой сельской общины, а неизбежная победа над ним (пусть даже вымышленная) составляет одну из их «национальных скреп». Именно поэтому в художественном отображении действительности они так склонны к самовлюбленному хвастовству и гротескному изображению окружающего мира. При этом, даже глобальные потрясения в виде мировых войн со временем не смогли умерить их воспаленное воображение, а, наоборот, стали использоваться в качестве подновленного антуража или старых мехов, в которое заливается новое вино, немедленно, впрочем, скисающее.
Если бы подобное развесистое дерево «вак-вак» было взращено каким-либо заокеанским борзописцем из Колорадо или Нью Мехико, его достаточно прямолинейные приемы могли бы быть объяснены свойственной уроженцам этих краев инфантильностью, но – нет, оно было высажено не просто любителем эпатажа, а вполне плодовитым литератором, осведомленным и титулованным представителем британского разведывательного истеблишмента - Дж. Бьюкеном. Он же - 1-й барон Твидсмур – один из первых, весьма искусных интерпретаторов мифа об «исламизме», вернее - глобальном исламском восстании и «исламской угрозе» вообще. В памяти его поколения были еще свежи воспоминания о суданских потрясениях 1882 г. и появлении там «Махди» - скрытого пророка, который объявился мусульманам в качестве предводителя восстания (#джихада) против «европейского владычества и засилья на Востоке», что бы под этим не подразумевалось. Описывая подробности надвигающегося возмущения, автор опирался на оригинальные источники, поскольку в начале войны работал военным корреспондентом, затем, после поступления в действующую армию - служил в звании временного подполковника в штабе Британского корпуса во Франции. После назначения Ллойд Джорджа премьер-министром – в 1917-1918 гг. он руководил работой Информационного департамента Министерства информации - аналитическом подразделении военной разведки. Некоторое время он возглавлял также «Разведывательный департамент», поэтому имел полный доступ к агентурной информации на протяжении всех военных лет. Свою версию исламского «заговора» он воссоздавал, опираясь на оригинальные донесения британских агентов. Так что в данном случае речь может идти не столько о желании соригинальничать автора-дилетанта, сколько о сознательном использовании профессиональных знаний для намеренного воздействия на читательское сознание.
Более поздние исследования, впрочем, подтвердили, что немцы на самом деле намеревались инициировать направленный против британского империализма «джихад», вокруг которого разворачивается основная интрига романа. В этих их замыслах центральная роль отводилась Турции, в первую очередь потому, что ее столица – Стамбул, которую в Европе упорно продолжали именовать Константинополь, стояла на Босфоре – узком проливе, отделяющем Средиземное море от Черного, и Европу – от Азии. В эпоху господства на морях военных флотов этот пролив рассматривался как стратегическое бутылочное горло, поскольку через черноморские проливы шла большая часть российской торговли с остальным миром. Во время войны, поэтому, Турция угрожала не только российским маршрутам морских поставок, но и британским имперским коммуникациям с Индией. В значительной степени поэтому немцы делали все, чтобы крепко привязать к себе Турцию в качестве союзника в годы, предшествующие войне. Кайзер Вильгельм дважды – в 1889 и 1898 посетил Константинополь и помолился на могиле Саладдина. С 1888 г. немецкий Deutsche Bank играл ведущую роль в финансировании проекта так называемой Берлинско-Багдадской железной дороги. Помимо этого, Германия не раз оказывала Турции свою военную помощь. В период с 1883 по 1896 гг. немецкий генерал фон дер Гольц находился на службе османского султана, выполняя задачу реформирования Османской армии. Другой немец – Отто Лиман фон Сандерс в 1913 году был назначен Генеральным инспектором турецкой армии. 30 июля 1914 г., еще до того, как Турция приняла окончательное решение принять участие в войне на стороне Германии, кайзер уже разрабатывал план следующих совместных действий, облекая их в категорическую словесную форму: «Наши консулы в Турции, в Индии, агенты… должны поджечь весь мусульманский мир и поднять безжалостное восстание против этой ненавистной нации лживых и безрассудных лавочников, потому что, если нам суждено до смерти истечь кровью, Англия по меньшей мере потеряет всю Индию». Не случайно поэтому П. Хопкирк так и назвал одну из своих книг – «Так распалялся Восток».
В ноябре 1914 г. турецкий султан, духовный глава всех мусульман-суннитов, поддавшись немецким уговорам, действительно объявил «джихад» – священную войну Британии и ее союзникам. С этой целью в Персию, оккупированную в то время британцами, был направлен некто Вильгельм Вассмус. Там в интересах Германии он организовал восстание среди кашкайцев и других местных племён против британских войск, оккупировавших нейтральную Персию. Англичане называли Вассмусса «немецким Лоуренсом». Учитывая, что в то время из 270 миллионов мусульман мира половина жили под британским, французским или русским владычеством, такой шаг казался гениальным достижением германской стратегии. Как и надеялись немцы, Британия в ответ на угрозу исламского возмущения немедленно перебросила войска с Западного фронта в Месопотамию (современный Ирак) и в район Дарданелл. Правда, все немецкие и британские попытки «разжечь» Восток оказались «хотелками» заигравшихся в «ориентализм» европейских специалистов. Ослепленные собственными химерами, они так и не сумели понять, что пассионарность исламского населения «Востока» к началу ХХ века окончательно сдулась. Тем не менее, возросшая «подрывная» активность немцев, направленная на развал «Антанты», непосредственно до и во время Первой мировой была действительно достаточно результативной – достаточно вспомнить хотя бы пресловутого Парвуса и его роль в организации революции 1917 года в России, но это – за рамками нашего «ближневосточного» угла, если пользоваться современным профессиональным сленгом.
В качестве противовеса османо-германскому «джихаду» британцы решили разыграть арабскую карту – поднять против турок арабское восстание, которое помогал организовывать и обеспечивал финансами знаменитый «эмир-динамит» – Томас Э. Лоуренс, прозванный Аравийским, о чем он сразу же после войны не преминул оповестить на весь мир, выпустив «Восстание в пустыне», экранизированное впоследствии с участием Питера О’Тула в главной роли. Легковерные и продажные бедуины и в самом деле поднялись, поддавшись на посулы британцев восстановить Арабский халифат в его прежних границах за счет Османской империи – «Больного человека» Европы. И тут же, естественно, оказались обмануты – никакого арабского халифата британцы реставрировать, естественно, никогда не собирались, отчего раздосадованный Лоуренс впал в депрессию и после Парижской мирной конференции в 1918 г. вышел в отставку, до конца дней терзаемый угрызениями совести за свой обман. Настолько, что даже переменил имя, обрубил все прежние связи и никогда больше не отваживался показываться на воспетом им некогда Востоке.
Угроза исламского антибританского возмущения, подогреваемая распространяемыми немцами слухами о принятии ислама императором Вильгельмом, страхами британцев из-за строительства железной дороги Берлин-Багдад, сведениями об активизации германской агентуры в регионе до и во время войны, антибританскими выступлениями в Судане, Египте и Иране, распространением ваххабитского движения в Аравии и т.п. - все это рассматривалось как вполне вероятная и серьезная угроза глобального «исламского возмущения», прежде всего потому, что с нею вовсю носились сами англичане: вся эта сомнительная история с Лоуренсом Аравийским и «Великим арабским восстанием», не говоря уже о деятельности «Арабского бюро», Гертруды Белл и Джона Филби – отца знаменитого советского разведчика Кима Филби. Примечательно, что, все эти «выдающиеся» кульбиты британской «real politic» (пообещать одной стороне (арабам) воссоздать халифат, другой (евреям) - национальный очаг в Палестине, третьей (России) – Черноморские проливы с целью втянуть всех в свою свару), не позволительные, естественно, никому, кроме самих англо-саксов, оказались настолько распространенным явлением в британском обществе и сознании, что один из исследователей этого феномена – британский писатель Дэвид Прайс-Джонс так и озаглавил свою книгу: «Предательство в крови: от Томаса Пейна до Кима Филби".
Здесь же – и другие составляющие манипуляции: большая страшилка вообще под названием «Восток», воплощенная в образе загадочного «Гринмантла» - «Зеленого плаща» или скрытого пророка, объявившегося в Малой Азии дабы всколыхнуть исламские массы на нечто во имя чего-то (на что именно и для чего – так до конца и остается нераскрытой интригой). Некое мистическое тайное общество - «товарищи сладких часов» - намек на разветвленную подпольную организацию, возможно, выведенную в тексте на фоне слухов о масонской принадлежности членов младотурецкого комитета «Единение и прогресс», который устроил революцию 1908 г. в Турции, но здесь - с явным гомосексуальным оттенком. Инфернальная красавица – злодейка, олицетворяющая собой одновременно всех известных тогда отважных женщин-авантюристок: Мату Хари, Гертруду Белл, Изабеллу Эберхард и др.
Все это густо замешано на скрытых символах бессознательного – непосредственно на годы, предшествующие Первой мировой, пришелся рассвет психоанализа в Европе и Америке, в котором понятие «подсознательного» было краеугольным, а сексуальная подоплека мыслеобразов, включая образ «женщины-вамп» - архетипической. Выбор исторического фона – Кавказского фронта Первой мировой войны обусловлен тем, что это был передний край «Востока» - того самого, где может происходить все, что будоражит незрелое сознание легковерного обывателя. Поэтому даже комментировать его для русского читателя нет никакого смысла – реальный эпизод Первой мировой со взятием Эрзерума русскими войсками, например – всего лишь фон, очередная авторская «замануха», нацеленная на то, чтобы «зацепить» легко возбудимое воображение «пипла», который «схавает всё». Степень невежества англичан о пространстве, которое они колонизировали десятилетия тому – это вообще отдельная тема. Хотя перед войной значительная часть британских разведывательных навыков и методов считались вполне современными. При этом представление о Турции, в частности, в британском правительстве было ничтожным. В 1929 г. Уинстон Черчилль писал в своих «Последствиях»: «Я не могу припомнить ни одну область политики, в которой британское правительство так плохо бы ориентировалось, как турецкая». Причины такого невежества тем более удивительны, что британцы работали с турецкими официальными лицами многие годы. Британский адмирал, например, был одним из тех, кто принимал участие в модернизации турецкого ВМФ накануне войны. Одним словом, «Гринмантл» - литературная манипуляция чистой воды, но тем он и интересен, ибо не замутнен последующей лакировкой, когда жанр уже вполне закрепился, расцвел и обособился.
В основе фабулы повествования - явный «мачизм» или, если выразиться более полит корректно - «утрированное преувеличение роли личности героя-мужчины» в противостоянии с коварной обольстительницей - вражеским агентом, но именно на это и делает упор автор, причем упор настолько явный и неприкрытый, что не вызвать сегодня комического эффекта он не может. Но при тогдашнем уровне интеллектуального развития общества, апокалиптических страхах, средствах связи, характере коммуникаций и вообще - осведомленности о происходящих событиях, вся эта гремучая смесь срабатывала безотказно, ибо вся Первая мировая вообще – оказалась таким тектоническим разрывом в привычном миропонимании и сознании людей того времени, что они охотно принимали на веру любой абсурд и небылицу. «Гримантла» роднит с не до конца разработанной еще в те годы теорией психоанализа нарочитый сексуальный подтекст повествования, плюс – откровенные художественно-манипуляционные приемы: недосказанность, «суггестия», мнимая многозначительность, набор актуальных в то время «триггеров» - тайные общества и собрания, наркотики, сублимированная сексуальность, варьетешная подача быстро меняющихся сцен и положений, нарочитое щеголянье чрезмерными заимствованиями из всевозможных языков: немецкого, датского, шотландского, «африкаанас» и «тааля», намеки на наличие неких таинственных подспудных связей между сильными мира сего – одним словом, сумбурная невнятность картины мира порождала химеры: сон разума рождал чудовищ.
Сила воздействия и секрет популярности романа (помимо, естественно, его жгучего «ориентализма» и антигерманской направленности) – в значительной степени в том, что в нем стирается грань между описанием здоровых и больных характеров, логичностью и алогичностью поступков, естественными и деланно-таинственными описаниями сцен и декораций. Необходимость неотрывно следить за разворачивающимся действием не оставляет читателю ни времени, ни возможности включить и задействовать участки сознания, ответственные за критическое осмысление текста. Он должен быть постоянно погружен в калейдоскоп событий, как белка в колесе, в то время, как внутренние переживания героев просто-напросто выхолащиваются – их заменяют какие-то комиксные ситуации, позы и типажи-«маркеры», вставляющие априорно отчеканенный образ в ту или иную декорацию, как паззл в мозаику, с заранее нанесенным на подложку рисунком. В этом, на самом деле, и заключается суть авторского метода – выбор из заранее запасенного набора заготовок тех, которые совершенно точно соответствуют ожиданиям потребителя и провоцируют заранее просчитанную реакцию. (Недаром он во время войны занимался пропагандой среди британских солдат)! У неискушенного же или привыкшего к другому качеству литературы читателя подобное нагромождение клише провоцирует состояние, которое иначе как «сломом сознания» не назовешь. Но именно на этом и строится расчет автора «Гринмантла» вкупе с его последователями из числа современных писателей-конспирологов. Его задача – дезориентировать и ошеломить читателя нагнетанием сонма таинственно-влекущих загадочных подробностей, перемешав их со схематично обозначенными реалиями, и тем самым – удерживать читательский интерес и внимание до последних страниц этого «криминального чтива». Классический прием манипуляции: кондовый, прямолинейный, но действенный. Сегодня этим мало кого удивишь: приемы, сюжетные ходы и персонажи жанра политического и военного детектива достаточно хорошо разработаны и удачно вписываются разными авторами в тот или иной антураж – современный или исторический, но для начала ХХ века все это было в новинку и воспринималось как сермяжная правда.
Нынешний фильмоцикл «Индианы Джонса», например, с участием Гаррисона Форда – пример современного беспардонного обращения с фактурой. Те же типажи, та же авантюрная интрига, тот же загадочно-колоритный «ориентальный» фон. Вольное обращение с историей, не сдерживаемое никакой «образованщиной», когда прошлое воспринимается не как «священная корова», а как театральная бутафория, декорация, открытый простор для безудержной фантазии, собственно, как и любые современные реалии. Горький с его знаменитым высказыванием «литература – человековедение» - это – какая-то «таинственная русская душа» вместе с прочими всякими Толстоевскими! Напрашивается наивный вопрос: «А что, и так можно было»? Но в этом – наиболее характерное отличие англо-саксонского характера и метода сочинительства, или, переиначивая известное выражение автора «Ориентализма» Э. Саида - «востокотворчества» - стремление не столько понять и отобразить, сколько «приспособить» фон, историю и реальность ко вкусам, уровню, мифам и порокам обывателя. Разумеется, всякое человеческое творчество созвучно своей эпохе, но степень сознательной спекуляции фактами у англосаксов – зашкаливает! Как и в любой другой области межкультурной коммуникации, впрочем. В результате мы и сегодня имеем то, что имеем, вроде нынешнего украинского шапито.
Конечно, любое человеческое сознание мифологично и дихотомично, и особенно когда речь идет о попытке объяснить и описать нечто «другое» или некого «иного». И волнообразно – от любви до ненависти. Но если говорить о русофильской составляющей «Гринмантла», следует вспомнить, что в Англии приступы любви к русским случались трижды: в 1812–1815, в 1914–1917 и в 1941-1945 годах, когда «враг стоял у ворот». Все же остальное время, на протяжении почти 250-т лет, англо-саксонское восприятие и изображение русских определяла русофобия – необходимое условие самооправдания для сотворения зверств и ужасов, не меньше нацистских во время Второй мировой: как известно, первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902 гг. – аккурат во время пребывания там автора «Гринмантла» Дж. Бьюкена. Видимо поэтому он с таким знанием дела описал антураж немецкого «исправительного учреждения» уже во время Первой мировой в Германии.
Говоря о корнях британской эксцентричности и коварстве (применительно к теме шпионажа), проглядывающихся в «Гринмантле», достаточно привести одну образную цитату из тогдашнего времени: "...воспитание Эллиотта заключалось в том, что сначала он прошел через вереницу нянек, а потом его вытолкнули из дома и запихнули в Дернфордскую школу в Дорсете, прославившуюся исключительной – даже по меркам британской средней школы – жестокостью: каждое утро мальчиков заставляли голышом нырять в бассейн без подогрева, чтобы доставить удовольствие директору, жена которого любила вслух читать поучительную литературу по вечерам, вытянув ноги и положив их на двух мальчиков, пока третий щекотал ей пятки. В школе не было ни свежих фруктов, ни туалетов с дверями, здесь никто не мешал одним ученикам издеваться над другими, и бежать отсюда тоже не было возможности. В наши дни такое учебное заведение признали бы нелегальным; в 1925 году считалось, что оно «формирует характер». В этой школе Эллиотт приобрел твердое убеждение, что «ничего более неприятного с ним уже не произойдет», а также глубокое презрение к власти и дерзкое остроумие". И как с такой поврежденной психикой после этого сочинять «шпионские романы»? Отсюда – и эпатажные манеры героев «Гринмантла», хорошо понятные и узнаваемые англо-саксонской публикой. Отсюда – и брезгливо-похотливое отношение к женщине-носительнице извечного греха и коварной соблазнительнице, сквозящее изо всех страниц «Гринмантла» - это тоже отголоски пуританского протестантского воспитания и сексуальной сублимации закрытых британских школ, в одной из которых учился автор – Дж. Бьюкен. В противоположность Шерлоку Холмсу, который испытывал хотя бы уважение к интеллектуальным способностям Ирэн Адлер, здесь главный герой - Хэнней демонстрирует полное презрение к своему антагонисту в женском обличье – Хильде фон Эйнем (вкупе со скрытым сладострастием). Для Бьюкена эта женщина – некий «опасный другой», угроза для бывшего воспитанника закрытой школы для мальчиков, враждебное потустороннее зло, которую даже по имени и называть неприлично. Именно поэтому он так унизительно, карикатурно и почти по-садистски расправляется с этой «штамповщицей пророков» в конце повествования.
Прототипом лжепророка Гринмантла по мнению многих историков-литературоведов явился такой же девиантный Лоуренс Аравийский, растрезвонивший на весь мир о своих мнимых «организационно-вдохновляющих» победах среди арабов в своих одиозных «Семи столпах мудрости». Хотя вся его роль среди них в действительности сводилась лишь к распоряжению средствами, выделенными английскими колониальными властями на подкуп продажных бедуинов для развязывания ими партизанской войны против турок на аравийских коммуникациях. Другие полагают, что им был друг Бьюкена - Обри Герберт, британский офицер, дипломат, путешественник и сотрудник разведки, связанный с движением за независимость Албании. Ему даже дважды предлагали трон этой страны (sic!). Его старшим сводным братом, кстати, был также большой любитель Востока, правда Древнего - Джордж Герберт, 5-й граф Карнарвон (1866-1923), который обнаружил гробницу Тутанхамона - он умер раньше него на пять месяцев. (Какие, однако, лихие переплетения судеб и сюжеты начала ХХ века!)
Лично я склоняюсь к мысли в пользу последнего, ибо, как осведомленный офицер разведки, Бьюкен, хороший приятель Лоуренса, наверняка, мог слышать и разделять такое мнение о нем: "Да, книга Лоуренса великолепна. Я только что ее дочитал. Но какой же мерзкой маленькой дрянью был он сам. Его собственная личность уменьшается по мере того, как вырастает его сага. Я потерял и ту тень интереса к нему, какая у меня была. Что за маленький евнух, кромсающий и ранящий свое тело, которое он так ненавидит. Нигде в книге нет и следа здоровой спермы, а что касается всей этой болтовни о людях, которые его унижают, говоря о своих женах, болезнях, еде и т.п., так «тьфу» на него! Он, кажется, был не более чем нудным подростком, зажавшим себя в тисках самоистязания и самоотрицания. Да, какой-то испорченный ребенок», - Гарри Синдерсона (известного как Синдерсон-паша) (1891-1974), который был личным врачом первого короля Ирака Фейсала с 1921 г. вплоть до его смерти. В 1973 г. была опубликована его книга «Тысяча и одна ночь: воспоминания об иракской династии потомков шерифа Мекки», в которой он так малопочтенно отозвался об «эмире-динамите».
Еще один набор мифов (и образов) – этно-психологический: немцы – тупые мясники-солдафоны, британцы – хитроумные и благородные офицеры и джентльмены, турки – невежественная масса, которую можно формовать как угодно, по прихоти европейца, русские – дружественная, простодушная орда, которая верит всему, в чем хочет убедить ее всегда позитивный и во всем компетентный носитель всяческого добра – «нетипичный англичанин» по выражению Десмонда Стюарта, а в добавок - еще и колоритный грек – естественно, пройдоха и содержатель притона. На этих хорошо узнаваемых карикатурных опереточно-комиксовых персонажах строится вся фигурная композиция романа, которую можно тасовать, как карточную колоду, в зависимости от декораций сцен на природе или в закрытом помещении.
Роман значим и интересен, прежде всего, как один из первых выверенных инструментов воздействия на читательское сознание, а отнюдь не как образец высокой литературы. Его истинная ценность – в праве первородства, потому что впоследствии подобное словоизвержение понеслось по канализационным трубам массового искусства могучим потоком. Отсюда, соответственно - и интерес в читательской среде, воспитанной на старых, классических образцах литературы. Его появление можно сравнить, примерно, с тем, как в чопорное приличное общество врывается на лихом скакуне экзотический ковбой-новобранец, претендующий на приобщенность к чему-то сугубо сокровенному и таинственному, что оттеняется нарочитой «демонизацией» образов противников, экзальтацией мизансцен и схематичностью описания ландшафта и интерьера. Одним словом – классический конъюнктурный и манипуляционный набор приемов и штампов, но достаточно ладно скроенный и один из первых, заложивших начало традиции «шпионского» жанра, и в этом – секрет его популярности в свое время, да и сейчас. Правда, пик его популярности был пройден, когда воспоминания о Первой мировой войне вскоре заместились более свежими, тяжелыми и мучительными - о Второй. Тем не менее, в судьбоносный межвоенный период ХХ века он умудрился заложить основы нового типа литературных опусов «ориентального» замеса, а с расцветом кинематографа – и фильмов – о шпионах/разведчиках- одиночках, лихо и на раз раскрывающих заговоры и расправляющихся с носителями инфернального зла на расслабившемся в «пыльной мудрости» Востоке. Впрочем, интерес к нему не ослабевает и сегодня – настолько точным оказалось его попадание в спектр стереотипов западного обывателя – от сублимированной сексуальности до карикатурной ксенофобии.
Нам, русским, воспитанным на высоких образцах гуманистической литературы, для которых трагические воспоминания о Первой мировой войне оказались замещены более драматичными впечатлениями нашей собственной более поздней истории, все это повествование может показаться пахучей детской неожиданностью, но на европейское мироощущение, литературу и искусство «Гринмантл» оказал ошеломляющее воздействие. Он стал провозвестником целого жанра – авантюрного шпионского романа, послужив ориентиром для таких деятелей искусства, как А. Конан Дойль (с которым, кстати, автор «Гринмантла» был хорошо знаком), Я. Флемминг, Р. Баден-Пауэлл, Г. Грин, Дж. ле Карре, П. Сассман и даже для такого «столпа» английской литературы как Д. Голсуорси («Конец главы») и др., которые создавали свои произведения, так или иначе интерпретируя образы и раздувая в своих творения дух безудержной эпатажности этого первородного «криминального чтива». А. Хичкок даже пытался снять фильм по мотивам «Гринмантла» с участием Кэрри Гранта и Ингрид Бергман, но вынужден был отказаться от своего намерения из-за несговорчивости наследников-правообладателей. В 1935 г. он, правда, экранизировал другой роман Дж. Бьюкена – «39 шагов», вознесший его на вершину популярности, но до конца своих дней сожалел об упущенной возможности снять картину именно по мотивам «Гринмантла». Тем не менее, экранизация даже «39 шагов» не только стала «хитом» А. Хитчкока, она перевернул страницу истории кино: появился новый кинематографический жанр: психологический шпионский триллер - двойная охота, в которой одинокий обыватель преследует своих врагов, убегая от других своих недругов и властей. Благодаря Бьюкену и Хичкоку мы можем взглянуть на историю литературы и кино таким образом: в начале был Ричард Хэнней, герой «Гринмантла» и «39-и шагов», вслед за которым пошла уже целая вереница однотипных героев.
Роман несколько раз (в 1959, 1978 и 2008 гг.) экранизировался на телевидении, и в последней киноверсии роль главного героя исполнил популярный британский актер Бенедикт Камбербеч. «Гринмантл», тем не менее, прочно вошел в историю современной авантюрно-криминальной литературы. Его первая глава, например - "Предложе






