О строгости и шариковых ручках
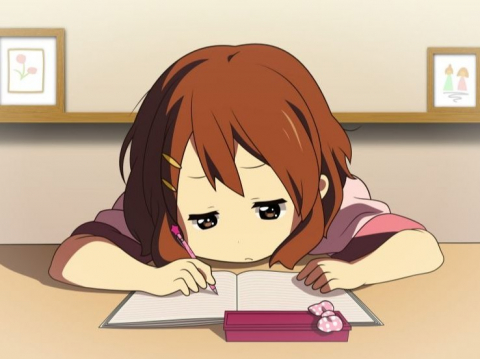
Как-то раз, совершенно внезапно и без повода, вспомнилась мне учительница русского и литературы. Не которая "первая моя" и не прекрасная и волшебная женщина, пришедшая в школу чуть позже (в немалой степени благодаря которой я стала писателем буковок и редактором).
А та была у нас временной. За давностью лет не помню, то ли заменяла кого по болезни, то ли вообще нашему классу тогда не досталось учительницы, а кому-то ж было надо вкладывать в нас знания. И вот отправили к ней. Память не удержала ни имени, ни фамилии, но отчество, кажется, было Федоровна. Средней монументальности женщина со старательно крашеными в черный волосами. Возраст, стрижка, собранность во всем, включая одежду.
Была она строгой. И тут надо почувствовать разницу. Не строгой, но справедливой, как "первая моя" — "первую мою" любил весь класс и старался слушаться, потому что уважал. А просто тупо строгой. Очень строгой. Иногда мне казалось, что она отчаянно скучает по тем временам, когда детей ставили на горох и разрешали пороть розгами. У нее в классе молчали. Молчали и учились. И не дай бог чего-то не выучивали. Словом, взглядом, голосом она уничтожала нерадивость с нерадивыми заодно.
И если то, что склонять, спрягать и лексически сочетать слова нужно по определенным правилам, еще было понятно. То с фактом, что читать и интерпретировать произведения классиков можно исключительно в рамках заветов и согласно инструкциям РОНО, уже как-то было трудно согласиться. Но у Федоровны отклонения не допускались ни на градус. Ну там, Базаров — зеркало русского нигилизма, Печорин — герой своего времени и т.д., и т.п.
Я, как и все, на ее уроках сидела тихо, изо всех сил стараясь не выделяться и лишний раз не привлекать внимание. А однажды у меня сломалась ручка. Помните те простенькие беленькие шариковые ручки? У меня треснул, а затем рассыпался кусками пластиковый корпус. А ручка была одна. Так получилось. Была еще с черным стержнем, но черным писать не разрешалось, за это ругали. И уж особенно не стоило этого делать у Федоровны: жить-то, знаете ли, хотелось. Взять новую было неоткуда. Если кто знает, я училась в школе-интернате и не могла просто сходить домой за нужным предметом. Просить у одноклассников... о, это ж целая эпопея! Мало у кого запасная. Мало у кого запасная синяя. Мало у кого можно вообще попросить. Ну не у мальчишек же, право слово! Да и у девчонок не у всех. Помните же сами: кланы, друзья, изгои... И плюс я — девочка, воспитанная самураями. Держать лицо — наше всё. Короче говоря, я вынула из обломков стержень и просто писала им. Не очень удобно, но хоть как-то. До конца недели должна была дотянуть, а там домой.
И всё это прекрасно прокатывало, пока я не попала на урок русского.
Федоровна заметила. Почти сразу.
— Что это? — вопросила она с такой холодной брезгливостью, будто я тайком притащила в школу и разложила на парте выводок дохлых хомячков.
— Что? — Я сначала даже не поняла, о чем она.
— Чем ты пишешь?! — Если бы хомячки не были бы дохлыми, померли бы прямо сейчас. — Это полное неуважение. Абсолютно неприемлемо! Где твоя ручка?
— Э-э... сломалась. Другой нет, извините, пожалуйста.
Взгляд.
Хомячки встали, построились, отдали честь и с патриотическими песнями ушли в закат.
— Недопустимо. Это расхлябанность и лень. Никогда не смей на моих уроках писать стержнем. Чтобы к следующему уроку ручка была.
Я ушла вслед за хомячками.
Нет, конечно, я уже не совсем точно помню тот диалог, который у нас с ней состоялся. Там было что-то еще, что-то более обидное. Что-то, что заставило меня потом весь урок старательно сдерживать слезы. Намек на никчемность, бездарность (талант же проявляется, только когда пишешь настоящей ручкой, а не каким-то там вынутым стержнем) и беспросветную лень, укор бедности, возможно. И разнос при всём классе. То есть теперь все знали, что у меня нет ручки и пишу я, как лох, стержнем.
Слезы я сдержала. И разозлилась. Это было несправедливо. Просто несправедливо.
Ручку я потом как-то нашла.
Но ту учительницу мы не любили.
А затем пришла Татьяна Владиславовна. Мой лучший учитель русского и литературы. Она учила нас думать. И любила, когда каждый из учеников находил в образе базаро-печорина что-то свое. Ей я показывала свои первые литературные опусы, и она ни разу не позволила себе захихикать при их прочтении. По крайней мере, при мне. :)
Ее мы любили. И даже не очень шалили на уроках. Интересно же было.






